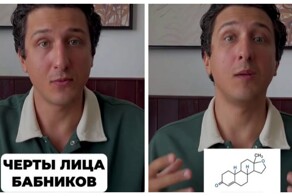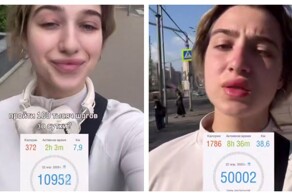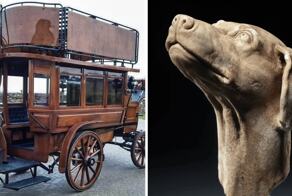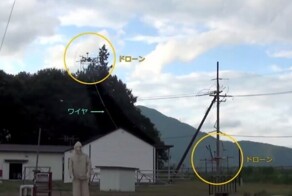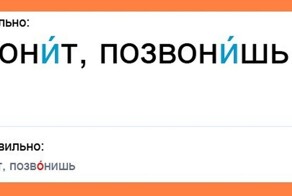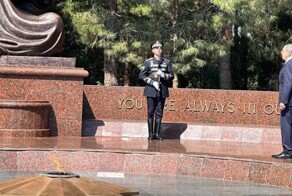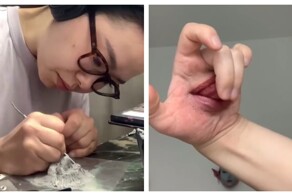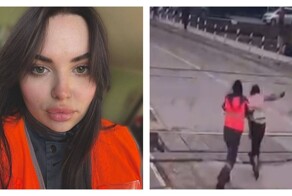2397
1
Рязанское и мещёрское казачество, имело свой говор, не свойственный говору жителей ни одной из губерний. Нынешние донские казачьи говоры – это живая народная речь казаков, живущих на территории двух соседних областей – Ростовской и Волгоградской.
Удивительно, что население теперешней Рязанской губернии, находящейся от Москвы всего в 200 верстах, сохранило до сих пор резкие особенности в говоре, обычаях, одежде и быте, не в пример соседним губерниям, совершенно слившимся в одно целое с москвичами. В песнях рязанцев, некоторых обычаях и особенно в фамилиях наблюдается удивительное сходство с Донцами и Гребенцами. Это обстоятельство тем более поразительно, что между Рязанью и Доном, не говоря уже про Кавказ, лежат целых две губернии, население которых ничего общего, по приведенным признакам, не имеет с казаками. Это означает, что древнее население Рязани главным образом состояло из казаков, известных впоследствии под именем Рязанских.
Рязанское и мещёрское казачество, имело свой говор, не свойственный говору жителей ни одной из губерний. Нынешние донские казачьи говоры – это живая народная речь казаков, живущих на территории двух соседних областей – Ростовской и Волгоградской.
Что примечательно, донские говоры сохраняют многие диалектные слова, уже утраченные другими родственными говорами. Так, нынешние казаки употребляют слова, зафиксированные в рязанских источниках XVII-XIX веков, но не сохранившиеся в современном рязанском диалекте. Казаки северных округов, или, как их обычно называли на Дону, верховые, говорили и говорят иначе, чем казаки южных округов, или низовые. Верховые казаки говорят твёрдо, медленно и протяжно, совершенно по-великорусски, с большим аканьем на севере, которое с приближением к югу ослабевает. Этот говор больше всего похож на говор жителей Рязанской губернии. Верховыми казаками на Дону назывались почти исключительно казаки Хопёрского, Усть-Медведицкого и частично Донецкого округов. Их говор отличается аканьем, однако он здесь не оканчивается, а распространяется, только уже со слабым аканьем, гораздо южнее и захватывает Донецкий округ, за исключением станицы Луганской, в которой говор перемешан с малорусским, затем 2-й Донской округ. В двух станицах Сальского округа – Великокняжеской и Атаманской – говор смешанный, т. е. говорили и по-верховому, и по-низовому, так как там станицы были образованы из казаков разных округов. С конца XV века начинается постепенное переселение на «Поле», а потом и ещё южнее. Сюда шли казаки рязанские, мещёрские и т.д. Преобладающим элементом, очевидно, всё же были южновеликороссы. Они и ассимилировали язык прежних переселенцев, сообщив им «аканье». Южно-великорусское наречие возникло ещё в Рязанском княжестве, где появились первые казаки, охранявшие границы этой территории (Великое Вольное Рязанское княжество, в те времена было самым большим, и простиралось от Каспийскогго моря и до Чернигова, гранича с Киевом) В дореволюционной и послереволюционной литературе заметны отголоски местных южно-великорусских наречий, на которых говорили донские казаки. Массовый же наплыв южновеликороссов на Дон – явление сравнительно позднее, и относится ко второй половине XVII века. Донской историк и писатель Евлампий Кательников в вопросе о языке и происхождении донских казаков считал, что «донцы-верховцы могут быть признаны в происхождении из той части России, где употребляют слова: што, чаво, яво, ишшо и подобные им вместо: что, чего, его, ещё» (то есть из Рязанщины). Существует довольно хорошо исследованный учёными рязанский диалект великорусского языка, область распространения которого, в основном, совпадает с границами бывшего Великого княжества Рязанского. Но вот что любопытно. Многие диалектизмы, уже вышедшие из употребления на своей исторической родине, продолжают жить в разговорной речи донских казаков. В предисловии к изданному в 1991 году в Ростове-на-Дону «Словаре донских говоров» отмечается, что «донские говоры сохраняют многие материнские диалектные слова, уже утраченные материнскими говорами, но известные по документам – рязанские, воронежские, тульские». В связи с этим вспомним, что и Воронежская, и значительная часть Тульской земли длительное время входили в состав Рязанского Великого княжества, а затем -- в Рязанский уезд Московского государства. Верховые казаки, прожив среди русских, пришли на Дон с чистым русским языком. Они принесли в своей речи диалекты тех местностей, где им пришлось перед этим проживать. Отразились места их предыдущего пребывания и на личных прозвищах: Мещеряк, Рязанец и т. п. Встречались такие фамилии, как Мещеряковы. С ними же на Дону появились некоторые служилые понятия, в том числе термин «станица» получил большое распространение и со временем станицами стали называть не только общины, но и самые поселения, в которых станицы размещались. Исследователь быта и языка донских казаков А. В. Миртов заметил, что быт и язык донских казаков, особенно верховых, испытали сильное влияние рязанцев – выходцев из мещёрских мест. Он считает, что «орязанились» в первую очередь все виды и названия одежды, пищи, утвари, т. е. бытовой язык. Рязанские и мещёрские казаки, в нравах и обычаях во многом походили на великороссов. Например Говор станицы Кумылженской на р. Хопёр напоминает наречие Шацкого уезда рязанской губернии. Многие обряды местных жителей свидетельствуют об этом. Из сохранившихся там преданий известно, что в середине XVII века предок теперешних Фроловых Даниил Гладкий приплыл на плоту из Рязани и поступил в состав граждан этой станицы. Потом у него появился внук Фёдор Гладкий. Из детей же Фрола некоторые стали называться Фроловыми. Из войсковой грамоты от 17 марта 1752 года видно, что Кумылженской станицы отставной казак Афанасьев послан был в Тамбовскую (Рязанская губерния) провинциальную канцелярию «для взятия и приводу достоверной справки в даче ему за взысканное с него за взысканное с него за вывоз жены его Ирины по указу выводных денег 10 рублёв выводного письма».
Валерий Розанов
доктор психологии
Рязанское и мещёрское казачество, имело свой говор, не свойственный говору жителей ни одной из губерний. Нынешние донские казачьи говоры – это живая народная речь казаков, живущих на территории двух соседних областей – Ростовской и Волгоградской.
Что примечательно, донские говоры сохраняют многие диалектные слова, уже утраченные другими родственными говорами. Так, нынешние казаки употребляют слова, зафиксированные в рязанских источниках XVII-XIX веков, но не сохранившиеся в современном рязанском диалекте. Казаки северных округов, или, как их обычно называли на Дону, верховые, говорили и говорят иначе, чем казаки южных округов, или низовые. Верховые казаки говорят твёрдо, медленно и протяжно, совершенно по-великорусски, с большим аканьем на севере, которое с приближением к югу ослабевает. Этот говор больше всего похож на говор жителей Рязанской губернии. Верховыми казаками на Дону назывались почти исключительно казаки Хопёрского, Усть-Медведицкого и частично Донецкого округов. Их говор отличается аканьем, однако он здесь не оканчивается, а распространяется, только уже со слабым аканьем, гораздо южнее и захватывает Донецкий округ, за исключением станицы Луганской, в которой говор перемешан с малорусским, затем 2-й Донской округ. В двух станицах Сальского округа – Великокняжеской и Атаманской – говор смешанный, т. е. говорили и по-верховому, и по-низовому, так как там станицы были образованы из казаков разных округов. С конца XV века начинается постепенное переселение на «Поле», а потом и ещё южнее. Сюда шли казаки рязанские, мещёрские и т.д. Преобладающим элементом, очевидно, всё же были южновеликороссы. Они и ассимилировали язык прежних переселенцев, сообщив им «аканье». Южно-великорусское наречие возникло ещё в Рязанском княжестве, где появились первые казаки, охранявшие границы этой территории (Великое Вольное Рязанское княжество, в те времена было самым большим, и простиралось от Каспийскогго моря и до Чернигова, гранича с Киевом) В дореволюционной и послереволюционной литературе заметны отголоски местных южно-великорусских наречий, на которых говорили донские казаки. Массовый же наплыв южновеликороссов на Дон – явление сравнительно позднее, и относится ко второй половине XVII века. Донской историк и писатель Евлампий Кательников в вопросе о языке и происхождении донских казаков считал, что «донцы-верховцы могут быть признаны в происхождении из той части России, где употребляют слова: што, чаво, яво, ишшо и подобные им вместо: что, чего, его, ещё» (то есть из Рязанщины). Существует довольно хорошо исследованный учёными рязанский диалект великорусского языка, область распространения которого, в основном, совпадает с границами бывшего Великого княжества Рязанского. Но вот что любопытно. Многие диалектизмы, уже вышедшие из употребления на своей исторической родине, продолжают жить в разговорной речи донских казаков. В предисловии к изданному в 1991 году в Ростове-на-Дону «Словаре донских говоров» отмечается, что «донские говоры сохраняют многие материнские диалектные слова, уже утраченные материнскими говорами, но известные по документам – рязанские, воронежские, тульские». В связи с этим вспомним, что и Воронежская, и значительная часть Тульской земли длительное время входили в состав Рязанского Великого княжества, а затем -- в Рязанский уезд Московского государства. Верховые казаки, прожив среди русских, пришли на Дон с чистым русским языком. Они принесли в своей речи диалекты тех местностей, где им пришлось перед этим проживать. Отразились места их предыдущего пребывания и на личных прозвищах: Мещеряк, Рязанец и т. п. Встречались такие фамилии, как Мещеряковы. С ними же на Дону появились некоторые служилые понятия, в том числе термин «станица» получил большое распространение и со временем станицами стали называть не только общины, но и самые поселения, в которых станицы размещались. Исследователь быта и языка донских казаков А. В. Миртов заметил, что быт и язык донских казаков, особенно верховых, испытали сильное влияние рязанцев – выходцев из мещёрских мест. Он считает, что «орязанились» в первую очередь все виды и названия одежды, пищи, утвари, т. е. бытовой язык. Рязанские и мещёрские казаки, в нравах и обычаях во многом походили на великороссов. Например Говор станицы Кумылженской на р. Хопёр напоминает наречие Шацкого уезда рязанской губернии. Многие обряды местных жителей свидетельствуют об этом. Из сохранившихся там преданий известно, что в середине XVII века предок теперешних Фроловых Даниил Гладкий приплыл на плоту из Рязани и поступил в состав граждан этой станицы. Потом у него появился внук Фёдор Гладкий. Из детей же Фрола некоторые стали называться Фроловыми. Из войсковой грамоты от 17 марта 1752 года видно, что Кумылженской станицы отставной казак Афанасьев послан был в Тамбовскую (Рязанская губерния) провинциальную канцелярию «для взятия и приводу достоверной справки в даче ему за взысканное с него за взысканное с него за вывоз жены его Ирины по указу выводных денег 10 рублёв выводного письма».
Валерий Розанов
доктор психологии
реклама