3624
1
... речь пойдет о настоящих врачах, которые порой ценой своей жизни оградили человечество от миллионов смертей.
Опыты врачей на самих себе — мучительные, нередко оканчивающиеся гибелью — драматическая страница в истории медицины. Доктора заражали себя вирусами, глотали микробов, вводили себе только что изобретенные препараты, спали в одежде прокаженных, голодали, пили яды... Одни умирали. Другие выживали. И все — на здоровье человечеству.
Смертоносные запятые
Первые строчки рейтинга отважных занимают врачи, изучавшие причины эпидемий смертельных инфекционных болезней — холеры, чумы, проказы и т. п. Вероятность умереть в результате опыта была крайне высокой.
В октябре 1892 года немецкий профессор Макс Петтенкофер выпил стакан холерных вибрионов. В то время эпидемия холеры уносила жизни половины заболевших, и этот поступок врача граничил с самоуничтожением. Но 73-летний доктор не был безумцем. Он хотел доказать правильность своей теории.
Возбудителя холеры к тому моменту уже целое десятилетие знали «в лицо». В 1883 году Роберт Кох открыл вибрион холеры, названный из-за своей формы «холерной запятой». Кох утверждал, что именно этот микроб является единственным виновником эпидемии. Но Петтенкофер, профессор гигиены, не верил в простую передачу инфекции. Он полагал, что болезнь возникает только при определенных обстоятельствах. Это зависит и от того, насколько ослаблен иммунитет человека, и от специфики местности (особенности почвы, грунтовых вод). «Почему в одном городе есть холера, а в другом нет?» — спрашивал Петтенкофер своих оппонентов. И действительно, население Парижа и Гамбурга содрогалось от количества жертв, а в Мюнхене вспышки холеры не наблюдались (там даже не отменили традиционный Октоберфест).
Доказать, кто прав — Кох или Петтенкофер, — можно было только одним способом: ввести возбудитель совершенно здоровому объекту, который проживает в здоровой местности. Кох экспериментировал на животных, но животные на холеру не реагировали, и потому Кох не мог предоставить в доказательство ни один пример. Петтенкофер решил избрать в качестве объекта себя. Он заказал в Берлинском институте здравоохранения культуру бацилл холеры. Профессор опасался, что соляная кислота желудочного сока может повредить микробам и потому для чистоты эксперимента добавил в раствор немного соды, а потом залпом выпил смертоносный «суп». В результате Петтенкофер неделю страдал от сильного расстройства кишечника, но настоящей холерой так и не заболел.
К сожалению, отважный эксперимент доктора нельзя было назвать абсолютным доказательством. В институте догадались, для чего старик-профессор заказал себе бациллы, и умышленно прислали ему старую, ослабленную культуру. Микробы были лишены полной силы. Но это выяснилось позднее. А тогда воодушевленные примером Петтенкофера и пытаясь разработать способы лечения болезни «суп» из холерных запятых стали принимать другие доктора, в том числе и русский профессор Мечников. Ухудшение здоровья наблюдалось у всех, но ни один из этих опытов не закончился смертельным исходом. Теория Петтенкофера была доказана. Однако свой эксперимент он пережил ненадолго. В 1901 году профессор застрелился, испугавшись надвигающейся старческой немощи.
Война с «черной смертью»
Чума — один из самых тяжелых недугов, известных человечеству. В средние века нашествия чумы косили иногда до половины населения европейских стран. В Вене до сих пор стоит «чумной столп», поставленный в 1679 году в память о жертвах «черной смерти».
Уберечься от чумы труднее, чем от любой другой инфекционной болезни. Если натиску холеры можно было как-то противостоять гигиеническими мерами, то от микробов чумы не спасали даже защитные маски.
Опыты медиков того времени, которые имели крайне слабое представление о бактериях, были направлены на то, чтобы доказать, что от чумы можно защититься так же, как и от оспы, — с помощью прививки.
Первым привил себе чуму английский врач Уайт. Через несколько дней у экспериментатора стали распухать лимфатические железы и поднялась температура. Уайт до последнего не хотел признавать, что заболел чумой. Он твердил, что болен малярией, и сдался только на восьмой день, когда признаки страшной болезни стали очевидны. Его отвезли в госпиталь для чумных, но было поздно.
Другой исследователь, австрийский врач Алоис Розенфельд, объездивший всю Африку, заявил своим коллегам на Венском медицинском факультете, что во время своих поездок нашел действенное средство от чумы. Это был порошок из высушенных лимфатических желез больных. Врач испробовал его на себе и уверенно рекомендовал как прививку. Коллеги отнеслись к порошку скептически и посоветовали Розенфельду поработать в чумном госпитале и проверить там эффективность своего ноу-хау. Врач отправился в греческий госпиталь и заперся с двадцатью больными чумой, отказавшись от всяческих средств предосторожности. Алоис отвел себе срок в шесть недель и стал ждать результата. Общение с зачумленными не приносило ему вреда, и тогда он решил усложнить эксперимент — натерся гноем, взятым из чумных нарывов. Шесть недель почти истекли, и обрадованный Розенфельд уже думал отправляться домой, как неожиданно все же заболел бубонной чумой со всеми страшными симптомами и скончался.
Самым дерзким поединком с мрачной болезнью можно назвать эксперимент молодого француза Антуана Клота. Он полагал, что к заражению приводит в первую очередь парализующий страх перед чумой. И считал его необоснованным. Вначале Клот долго носил перепачканную кровью и гноем рубашку мужчины, заболевшего тяжелой формой чумы. Затем сделал себе шесть прививок и перевязал эти места повязками, смоченными кровью больного. Но и этого ему показалось недостаточно. Он лег в постель только что умершего пациента. Отважный врач сделал все, чтобы заразиться. Но так и не заболел.
По-настоящему эффективное средство от чумы было изобретено уже в ХХ веке. Автор первой противочумной сыворотки — ученый Владимир Хавкин. Он же создал первую эффективную вакцину против холеры. Занятно, что русское правительство от услуг еврея Хавкина отказалось. Ученый переехал в Швейцарию и спасал мир уже оттуда. Действие своих вакцин он, разумеется, также проверял на себе.
Тайна желтой лихорадки
Над разгадкой причины этой таинственной болезни медики бились очень долго. Вне сомнения было только то, что это заболевание — инфекционное. Так же было ясно, что желтая лихорадка распространена только в низменностях и болотистых местах жарких стран. Но что именно служит источником заражения — испарения почвы? ядовитые вещества? человек? животное? — оставалось неизвестным.
Врачи ставили на себе опыт за опытом. Доктор Хатан Поттер обвернул голову платком, намоченным в поту умирающего от желтой лихорадки, и так проспал всю ночь. Не заразился. Француз Гюйон сделал на своем теле множество маленьких надрезов, втирал в ранки рвотную массу больного и даже выпил ее немного — но все равно остался жив-здоров.
Ключ к проблеме был найден в одной из кубинских тюрем, где в камере внезапно заболел и умер один из заключенных. Никто из его сокамерников не был ни болен, ни инфицирован. До помещения в тюрьму больной был здоров. Стало быть, инфекцию он получил в самой камере. Но как? От кого? И тогда возникло предположение, что через окно в камеру залетело насекомое, которое своим укусом вызвало у заключенного желтую лихорадку. На Кубу прибыл доктор Финлей, который, оказывается, теорию о тропических комарах-разносчиках продвигал уже несколько лет, но до сих пор никак не мог ее подтвердить — никто из подозреваемых комаров, которых он сажал себе на руку, не вызвал у него желтой лихорадки. Почему его опыты были неудачны, стало ясно позже. Желтую лихорадку — вирусное заболевание — действительно разносят комары, после того как получают вирус вместе с кровью укушенного ими больного. Но лишь по прошествии 6-10 дней, за которые вирус успевает развиться в теле насекомого, комар может заразить другого человека. Финлей просто не учел инкубационный период.
Подтвердить эту гипотезу взялся медик Джесс Лассеар. 13 сентября 1900 года, когда он работал в госпитале в Гаване, он дал себя укусить тропическому комару, витавшему в палате, и стал ждать. Пятью днями позже доктор оказался на больничной койке в этой же самой палате. У него поднялась температура, коллеги исследовали его кровь, и стало ясно — Лассеар болен желтой лихорадкой. Болезнь быстро входила в обычное русло. Лассеар продолжал вести наблюдения и сообщать коллегам о своем состоянии. Товарищ Лассеара, доктор Кэрролл, писал в докладе о его заболевании: «Я никогда не забуду озабоченного выражения глаз тяжело больного коллеги, когда на третий день я видел его в последний раз. Судорожные сокращения диафрагмы показывали, что предстояла пресловутая кровавая рвота. И больной знал эти симптомы слишком хорошо…»
34-летний Лассеар умер. Гипотеза была доказана.
«...и мы увидим, умру ли я от этого»
Болезнь бешенства, в отличие от вышеперечисленных инфекций, нельзя назвать «бичом народов» — она никогда не выливалась в масштабные эпидемии. Но эта болезнь страшна своей бескомпромиссностью. Если у человека появился хоть один симптом бешенства, шансов выжить у него нет. Даже сейчас, известны лишь восемь случаев выздоровления людей от бешенства (причем пять из них лабораторно не подтверждены).
Все, что можно сделать для человека, укушенного бешеным животным, — успеть ввести вакцину до начала проявления симптомов.
Вакцину от бешенства изобрел Луи Пастер в 1885 году. Пастер был известным химиком и микробиологом, и кроме прививки сделал для человечества много добрых дел (например, придумал нагревать продукты до определенной температуры для уничтожения болезнетворной микрофлоры; этот процесс так и назвали — «пастеризация»). Так вот, когда Пастер разработал свою замечательную прививку против бешенства, возникла одна проблема. Автор проблемы — все тот же пресловутый профессор Кох из главы про холеру. Он высказал следующую мысль: для того чтобы применять вакцину, необходимо точно знать, была ли бешеной собака, укусившая пациента. Если бешенство только подозревается, а на самом деле животное здорово, то смертельной может оказаться сама вакцина. Ведь действие противоядия не было уничтожено вирусом самого бешенства.
Ошибочность этого мнения доказал никому в ту пору неизвестный врач Эммерих Ульман. Он проводил в Париже отпуск и в один прекрасный день явился к Пастеру и спросил, знаком ли тот с мнением Коха. Получив утвердительный ответ, он заявил: «Меня не кусала никакая собака — ни бешеная, ни подозреваемая в бешенстве. Проведите на мне предохранительную прививку, и мы увидим, умру ли я от этого. Я так убежден в правильности ваших прививок, что охотно предоставляю себя в ваше распоряжение». И закатал рукав рубашки. Пастер согласился. Тотчас была произведена первая прививка. В последующие дни Ульману сделали еще 10 прививок, и он остался здоров. Вакцина благодаря этому эксперименту получила широкое распространение.
А Ульман стал профессором и прославился на ниве трансплантологии (пересадил козе на шею почку собаки; правда, коза через две недели умерла, зато медицина узнала о возможности сшивания сосудов).
Приручить яды
Кроме микробов врачи испытывали на себе действие токсичных препаратов, ядов и наркотиков, а также других малоприятных субстанций.
В 1944 году был проведен аутоэксперимент по исследованию свойств яда кураре. Это любимый яд южноамериканских индейцев: он парализует мускулатуру внутренних органов, и животное, пораженное ядовитой стрелой, попросту умирает от удушья. Между тем эти же свойства кураре могли оказаться весьма полезными для медицины при операциях на брюшной полости: кураре парализует мышцы, не затрагивая мозг. Но какова должна быть лечебная доза этого яда? И точно ли насчет мозга? Эти и другие вопросы взялся разрешить «подопытный врач», американец Роджер Смит. Позже доктор описал свои ощущения от инъекции. Сначала были парализованы мышцы горла. Он не мог больше глотать и чуть не захлебнулся собственной слюной. Затем паралич распространился на конечности, а потом добрался до дыхательных мышц диафрагмы. Смит испугался, что вот-вот наступят полный паралич и смерть от удушья. При этом сердце и мозг продолжали нормально работать. Коллеги, присутствовавшие при опыте, дали Смиту подышать кислородом и стали наблюдать за ним дальше. Лишь когда стало ясно, что продолжение опыта опасно для жизни, он был прекращен. «Я чувствовал себя так, как будто был заживо погребен», — рассказывал Смит. Врач рисковал не напрасно. После определения лечебной дозировки кураре стал использоваться в медицине достаточно часто.
Противоядие от змеиных укусов испытывал на себе швейцарец Жак Понто. Единственный способ проверить, эффективна ли его прививка, заключался в том, чтобы дать себя укусить змее. Жака кусали три черные гадюки. «У меня было такое чувство, будто меня казнят» — эти слова Понто точнее всего говорят о его моральном состоянии во время опыта, в исходе которого он был совсем не уверен, несмотря на весь свой оптимизм и веру в прививку.
А великий Карл Шееле, автор множества фармацевтических открытий, наоборот, был слишком уверен, а может быть, им двигало что-то иное. По одним сведениям, Шееле имел дурацкую привычку пробовать на вкус все, с чем он имел дело. По другим —
в те годы (конец XVIII века) при описании вещества обязательно надо было указывать его вкус. Словом, когда Шееле открыл синильную кислоту, он мог бы ее и не пробовать — остался бы жив.
Путь к сердцу
О храбрости немецкого врача Вернера Форсмана стоит рассказать в отдельной главе. Он провел эксперимент на собственном сердце. Форсман давно вынашивал идею исследовать сердце с помощью катетера и научиться с его же помощью вводить в сердце лекарства.
Для начала надо было провести катетер по вене и достичь цели. Коллеги Форсмана пришли в ужас: они считали, что при прикосновении инородного предмета сердце может ответить шоком и остановиться. Форсман все же уговорил одного из врачей себе ассистировать. Он надрезал вену у локтя, ввел в нее узкую трубку и начал продвигать ее по направлению к сердцу, то есть по ходу тока в вене. Трубка, однако, до сердца не дошла, потому что перепуганный ассистент отказался продолжать опасный опыт. Ассистента можно понять: в случае чего ответственность легла бы на его плечи. Но упрямый Форсман решил повторить эксперимент и действовать самостоятельно. И все получилось! Он ввел катетер на 65 сантиметров и достиг правой половины сердца. В таком состоянии Форсман умудрился включить рентгеновский аппарат и зафиксировать свой успех. Впоследствии метод был доработан, в чем Форсману помогли два американских врача — Корнан и Ричардс. В 1957 году все трое получили Нобелевскую премию.
Новый метод оказался полезным очень скоро. Исследователи смогли установить неизвестные доселе факты: например, качество крови в правой и левой половинах сердца и, соответственно, степень функциональных нарушений. В частности, катетеризация оказалась превосходным инструментом диагностики и лечения врожденного порока сердца у детей.
Питание и выживание
Эксперименты, связанные с физиологией питания, врачи проводили часто. Они пытались на практике выяснить, как одностороннее питание, при котором исключены те или иные витамины, влияет на организм. Можно ли питаться одним мясом? Сколько нужно хлеба, чтобы покрыть дневную потребность в пище? Что будет, если есть только яйца? Сколько можно протянуть, полностью исключив из рациона жир? Является ли голодание лечебным процессом?
Сейчас на эти вопросы давно есть ответы. Но тем, кто искал эти ответы, порой приходилось туго.
Печально закончились опыты англичанина Уильяма Старка, жившего в середине XVIII века. Он хотел доказать, что продукты делятся на «вредные» и «безобидные». Старк выбирал определенный вид пищи и в течение нескольких недель питался только им. Например, пару недель он сидел только на хлебе и воде. Следующий промежуток времени он ел только хлеб, сало и чай. Затем — только мед и пудинг из муки тонкого помола.
В конце концов Старк полностью подорвал свое здоровье, и когда настала неделя сыра честер, он безвременно скончался. Старку было всего 29 лет.
Врач Макс Мошковский, чтобы проверить свою гипотезу о причинах болезни бери-бери, 236 дней ел только шлифованный рис. Его идея подтвердилась: он заболел тяжелой формой бери-бери. После того как одностороннее питание привело к упадку сил, судорогам, нервным болям и сердечной слабости, опыт решено было прекратить. Мошковский выжил, но даже спустя 20 лет последствия этого заболевания все еще давали о себе знать.
Мужественный, но главное — чрезвычайно эффективный эксперимент провел француз Ален Бомбар. Он занимался проблемами выживания в экстремальных ситуациях и пытался ответить на вопрос: почему большинство жертв кораблекрушений умирает в первые три дня? От голода и жажды они должны были бы умереть позже. Ален предположил, что большинство людей могли бы выжить, если бы не их отчаяние, и решил это доказать.
В 1952 году он пересек Атлантический океан на резиновой лодке, не имея никаких запасов пищи и пресной воды. Бомбар питался только планктоном и сырой рыбой, пил сок, который выжимал из рыбы. За 65 дней он проплыл от Канарских островов до Барбадоса. Ален похудел на 25 кг, уровень гемоглобина упал до критической отметки. Но Бомбар остался жив и даже написал книгу о своем опыте. «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда!
Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха!» Об Алене Бомбаре заговорил весь мир.
В результате его эксперимента французские корабли стали оснащать резиновыми лодками, а бесстрашному экспериментатору до конца дней приходили письма от спасшихся людей, которые благодарили его: «Если бы не ваш пример, мы бы погибли».
Большое счастье, если твоя жертва оказалась не напрасна и ты еще при жизни увидел несомненную пользу от своего деяния. А сколько было напрасных жертв! Сколько врачей, которые умерли, так и не узнав, что их теория работает. Но никого это не останавливало. И не останавливает до сих пор. Кажется, в наши-то дни, с нынешней наукой, техникой и прочими микроскопами можно найти другие пути доказательств теории. А врачи по-прежнему продолжают проверять все на себе. Австралийские исследователи Маршалл и Уоренн много лет собирали доказательства того, что причиной гастрита является вовсе не стресс и неправильное питание, а особенная бактерия Helicobacter pylori, которая закрепляется на стенке желудка. В 1994 году, чтобы доказать, что гастрит — инфекционное заболевание, Барри Маршалл выпил содержимое чашки Петри с культурой из этих бактерий. Получил гастрит и Нобелевскую премию.
А что делать? Работа такая.
Смертоносные запятые
Первые строчки рейтинга отважных занимают врачи, изучавшие причины эпидемий смертельных инфекционных болезней — холеры, чумы, проказы и т. п. Вероятность умереть в результате опыта была крайне высокой.
В октябре 1892 года немецкий профессор Макс Петтенкофер выпил стакан холерных вибрионов. В то время эпидемия холеры уносила жизни половины заболевших, и этот поступок врача граничил с самоуничтожением. Но 73-летний доктор не был безумцем. Он хотел доказать правильность своей теории.
Возбудителя холеры к тому моменту уже целое десятилетие знали «в лицо». В 1883 году Роберт Кох открыл вибрион холеры, названный из-за своей формы «холерной запятой». Кох утверждал, что именно этот микроб является единственным виновником эпидемии. Но Петтенкофер, профессор гигиены, не верил в простую передачу инфекции. Он полагал, что болезнь возникает только при определенных обстоятельствах. Это зависит и от того, насколько ослаблен иммунитет человека, и от специфики местности (особенности почвы, грунтовых вод). «Почему в одном городе есть холера, а в другом нет?» — спрашивал Петтенкофер своих оппонентов. И действительно, население Парижа и Гамбурга содрогалось от количества жертв, а в Мюнхене вспышки холеры не наблюдались (там даже не отменили традиционный Октоберфест).
Доказать, кто прав — Кох или Петтенкофер, — можно было только одним способом: ввести возбудитель совершенно здоровому объекту, который проживает в здоровой местности. Кох экспериментировал на животных, но животные на холеру не реагировали, и потому Кох не мог предоставить в доказательство ни один пример. Петтенкофер решил избрать в качестве объекта себя. Он заказал в Берлинском институте здравоохранения культуру бацилл холеры. Профессор опасался, что соляная кислота желудочного сока может повредить микробам и потому для чистоты эксперимента добавил в раствор немного соды, а потом залпом выпил смертоносный «суп». В результате Петтенкофер неделю страдал от сильного расстройства кишечника, но настоящей холерой так и не заболел.
К сожалению, отважный эксперимент доктора нельзя было назвать абсолютным доказательством. В институте догадались, для чего старик-профессор заказал себе бациллы, и умышленно прислали ему старую, ослабленную культуру. Микробы были лишены полной силы. Но это выяснилось позднее. А тогда воодушевленные примером Петтенкофера и пытаясь разработать способы лечения болезни «суп» из холерных запятых стали принимать другие доктора, в том числе и русский профессор Мечников. Ухудшение здоровья наблюдалось у всех, но ни один из этих опытов не закончился смертельным исходом. Теория Петтенкофера была доказана. Однако свой эксперимент он пережил ненадолго. В 1901 году профессор застрелился, испугавшись надвигающейся старческой немощи.
Война с «черной смертью»
Чума — один из самых тяжелых недугов, известных человечеству. В средние века нашествия чумы косили иногда до половины населения европейских стран. В Вене до сих пор стоит «чумной столп», поставленный в 1679 году в память о жертвах «черной смерти».
Уберечься от чумы труднее, чем от любой другой инфекционной болезни. Если натиску холеры можно было как-то противостоять гигиеническими мерами, то от микробов чумы не спасали даже защитные маски.
Опыты медиков того времени, которые имели крайне слабое представление о бактериях, были направлены на то, чтобы доказать, что от чумы можно защититься так же, как и от оспы, — с помощью прививки.
Первым привил себе чуму английский врач Уайт. Через несколько дней у экспериментатора стали распухать лимфатические железы и поднялась температура. Уайт до последнего не хотел признавать, что заболел чумой. Он твердил, что болен малярией, и сдался только на восьмой день, когда признаки страшной болезни стали очевидны. Его отвезли в госпиталь для чумных, но было поздно.
Другой исследователь, австрийский врач Алоис Розенфельд, объездивший всю Африку, заявил своим коллегам на Венском медицинском факультете, что во время своих поездок нашел действенное средство от чумы. Это был порошок из высушенных лимфатических желез больных. Врач испробовал его на себе и уверенно рекомендовал как прививку. Коллеги отнеслись к порошку скептически и посоветовали Розенфельду поработать в чумном госпитале и проверить там эффективность своего ноу-хау. Врач отправился в греческий госпиталь и заперся с двадцатью больными чумой, отказавшись от всяческих средств предосторожности. Алоис отвел себе срок в шесть недель и стал ждать результата. Общение с зачумленными не приносило ему вреда, и тогда он решил усложнить эксперимент — натерся гноем, взятым из чумных нарывов. Шесть недель почти истекли, и обрадованный Розенфельд уже думал отправляться домой, как неожиданно все же заболел бубонной чумой со всеми страшными симптомами и скончался.
Самым дерзким поединком с мрачной болезнью можно назвать эксперимент молодого француза Антуана Клота. Он полагал, что к заражению приводит в первую очередь парализующий страх перед чумой. И считал его необоснованным. Вначале Клот долго носил перепачканную кровью и гноем рубашку мужчины, заболевшего тяжелой формой чумы. Затем сделал себе шесть прививок и перевязал эти места повязками, смоченными кровью больного. Но и этого ему показалось недостаточно. Он лег в постель только что умершего пациента. Отважный врач сделал все, чтобы заразиться. Но так и не заболел.
По-настоящему эффективное средство от чумы было изобретено уже в ХХ веке. Автор первой противочумной сыворотки — ученый Владимир Хавкин. Он же создал первую эффективную вакцину против холеры. Занятно, что русское правительство от услуг еврея Хавкина отказалось. Ученый переехал в Швейцарию и спасал мир уже оттуда. Действие своих вакцин он, разумеется, также проверял на себе.
Тайна желтой лихорадки
Над разгадкой причины этой таинственной болезни медики бились очень долго. Вне сомнения было только то, что это заболевание — инфекционное. Так же было ясно, что желтая лихорадка распространена только в низменностях и болотистых местах жарких стран. Но что именно служит источником заражения — испарения почвы? ядовитые вещества? человек? животное? — оставалось неизвестным.
Врачи ставили на себе опыт за опытом. Доктор Хатан Поттер обвернул голову платком, намоченным в поту умирающего от желтой лихорадки, и так проспал всю ночь. Не заразился. Француз Гюйон сделал на своем теле множество маленьких надрезов, втирал в ранки рвотную массу больного и даже выпил ее немного — но все равно остался жив-здоров.
Ключ к проблеме был найден в одной из кубинских тюрем, где в камере внезапно заболел и умер один из заключенных. Никто из его сокамерников не был ни болен, ни инфицирован. До помещения в тюрьму больной был здоров. Стало быть, инфекцию он получил в самой камере. Но как? От кого? И тогда возникло предположение, что через окно в камеру залетело насекомое, которое своим укусом вызвало у заключенного желтую лихорадку. На Кубу прибыл доктор Финлей, который, оказывается, теорию о тропических комарах-разносчиках продвигал уже несколько лет, но до сих пор никак не мог ее подтвердить — никто из подозреваемых комаров, которых он сажал себе на руку, не вызвал у него желтой лихорадки. Почему его опыты были неудачны, стало ясно позже. Желтую лихорадку — вирусное заболевание — действительно разносят комары, после того как получают вирус вместе с кровью укушенного ими больного. Но лишь по прошествии 6-10 дней, за которые вирус успевает развиться в теле насекомого, комар может заразить другого человека. Финлей просто не учел инкубационный период.
Подтвердить эту гипотезу взялся медик Джесс Лассеар. 13 сентября 1900 года, когда он работал в госпитале в Гаване, он дал себя укусить тропическому комару, витавшему в палате, и стал ждать. Пятью днями позже доктор оказался на больничной койке в этой же самой палате. У него поднялась температура, коллеги исследовали его кровь, и стало ясно — Лассеар болен желтой лихорадкой. Болезнь быстро входила в обычное русло. Лассеар продолжал вести наблюдения и сообщать коллегам о своем состоянии. Товарищ Лассеара, доктор Кэрролл, писал в докладе о его заболевании: «Я никогда не забуду озабоченного выражения глаз тяжело больного коллеги, когда на третий день я видел его в последний раз. Судорожные сокращения диафрагмы показывали, что предстояла пресловутая кровавая рвота. И больной знал эти симптомы слишком хорошо…»
34-летний Лассеар умер. Гипотеза была доказана.
«...и мы увидим, умру ли я от этого»
Болезнь бешенства, в отличие от вышеперечисленных инфекций, нельзя назвать «бичом народов» — она никогда не выливалась в масштабные эпидемии. Но эта болезнь страшна своей бескомпромиссностью. Если у человека появился хоть один симптом бешенства, шансов выжить у него нет. Даже сейчас, известны лишь восемь случаев выздоровления людей от бешенства (причем пять из них лабораторно не подтверждены).
Все, что можно сделать для человека, укушенного бешеным животным, — успеть ввести вакцину до начала проявления симптомов.
Вакцину от бешенства изобрел Луи Пастер в 1885 году. Пастер был известным химиком и микробиологом, и кроме прививки сделал для человечества много добрых дел (например, придумал нагревать продукты до определенной температуры для уничтожения болезнетворной микрофлоры; этот процесс так и назвали — «пастеризация»). Так вот, когда Пастер разработал свою замечательную прививку против бешенства, возникла одна проблема. Автор проблемы — все тот же пресловутый профессор Кох из главы про холеру. Он высказал следующую мысль: для того чтобы применять вакцину, необходимо точно знать, была ли бешеной собака, укусившая пациента. Если бешенство только подозревается, а на самом деле животное здорово, то смертельной может оказаться сама вакцина. Ведь действие противоядия не было уничтожено вирусом самого бешенства.
Ошибочность этого мнения доказал никому в ту пору неизвестный врач Эммерих Ульман. Он проводил в Париже отпуск и в один прекрасный день явился к Пастеру и спросил, знаком ли тот с мнением Коха. Получив утвердительный ответ, он заявил: «Меня не кусала никакая собака — ни бешеная, ни подозреваемая в бешенстве. Проведите на мне предохранительную прививку, и мы увидим, умру ли я от этого. Я так убежден в правильности ваших прививок, что охотно предоставляю себя в ваше распоряжение». И закатал рукав рубашки. Пастер согласился. Тотчас была произведена первая прививка. В последующие дни Ульману сделали еще 10 прививок, и он остался здоров. Вакцина благодаря этому эксперименту получила широкое распространение.
А Ульман стал профессором и прославился на ниве трансплантологии (пересадил козе на шею почку собаки; правда, коза через две недели умерла, зато медицина узнала о возможности сшивания сосудов).
Приручить яды
Кроме микробов врачи испытывали на себе действие токсичных препаратов, ядов и наркотиков, а также других малоприятных субстанций.
В 1944 году был проведен аутоэксперимент по исследованию свойств яда кураре. Это любимый яд южноамериканских индейцев: он парализует мускулатуру внутренних органов, и животное, пораженное ядовитой стрелой, попросту умирает от удушья. Между тем эти же свойства кураре могли оказаться весьма полезными для медицины при операциях на брюшной полости: кураре парализует мышцы, не затрагивая мозг. Но какова должна быть лечебная доза этого яда? И точно ли насчет мозга? Эти и другие вопросы взялся разрешить «подопытный врач», американец Роджер Смит. Позже доктор описал свои ощущения от инъекции. Сначала были парализованы мышцы горла. Он не мог больше глотать и чуть не захлебнулся собственной слюной. Затем паралич распространился на конечности, а потом добрался до дыхательных мышц диафрагмы. Смит испугался, что вот-вот наступят полный паралич и смерть от удушья. При этом сердце и мозг продолжали нормально работать. Коллеги, присутствовавшие при опыте, дали Смиту подышать кислородом и стали наблюдать за ним дальше. Лишь когда стало ясно, что продолжение опыта опасно для жизни, он был прекращен. «Я чувствовал себя так, как будто был заживо погребен», — рассказывал Смит. Врач рисковал не напрасно. После определения лечебной дозировки кураре стал использоваться в медицине достаточно часто.
Противоядие от змеиных укусов испытывал на себе швейцарец Жак Понто. Единственный способ проверить, эффективна ли его прививка, заключался в том, чтобы дать себя укусить змее. Жака кусали три черные гадюки. «У меня было такое чувство, будто меня казнят» — эти слова Понто точнее всего говорят о его моральном состоянии во время опыта, в исходе которого он был совсем не уверен, несмотря на весь свой оптимизм и веру в прививку.
А великий Карл Шееле, автор множества фармацевтических открытий, наоборот, был слишком уверен, а может быть, им двигало что-то иное. По одним сведениям, Шееле имел дурацкую привычку пробовать на вкус все, с чем он имел дело. По другим —
в те годы (конец XVIII века) при описании вещества обязательно надо было указывать его вкус. Словом, когда Шееле открыл синильную кислоту, он мог бы ее и не пробовать — остался бы жив.
Путь к сердцу
О храбрости немецкого врача Вернера Форсмана стоит рассказать в отдельной главе. Он провел эксперимент на собственном сердце. Форсман давно вынашивал идею исследовать сердце с помощью катетера и научиться с его же помощью вводить в сердце лекарства.
Для начала надо было провести катетер по вене и достичь цели. Коллеги Форсмана пришли в ужас: они считали, что при прикосновении инородного предмета сердце может ответить шоком и остановиться. Форсман все же уговорил одного из врачей себе ассистировать. Он надрезал вену у локтя, ввел в нее узкую трубку и начал продвигать ее по направлению к сердцу, то есть по ходу тока в вене. Трубка, однако, до сердца не дошла, потому что перепуганный ассистент отказался продолжать опасный опыт. Ассистента можно понять: в случае чего ответственность легла бы на его плечи. Но упрямый Форсман решил повторить эксперимент и действовать самостоятельно. И все получилось! Он ввел катетер на 65 сантиметров и достиг правой половины сердца. В таком состоянии Форсман умудрился включить рентгеновский аппарат и зафиксировать свой успех. Впоследствии метод был доработан, в чем Форсману помогли два американских врача — Корнан и Ричардс. В 1957 году все трое получили Нобелевскую премию.
Новый метод оказался полезным очень скоро. Исследователи смогли установить неизвестные доселе факты: например, качество крови в правой и левой половинах сердца и, соответственно, степень функциональных нарушений. В частности, катетеризация оказалась превосходным инструментом диагностики и лечения врожденного порока сердца у детей.
Питание и выживание
Эксперименты, связанные с физиологией питания, врачи проводили часто. Они пытались на практике выяснить, как одностороннее питание, при котором исключены те или иные витамины, влияет на организм. Можно ли питаться одним мясом? Сколько нужно хлеба, чтобы покрыть дневную потребность в пище? Что будет, если есть только яйца? Сколько можно протянуть, полностью исключив из рациона жир? Является ли голодание лечебным процессом?
Сейчас на эти вопросы давно есть ответы. Но тем, кто искал эти ответы, порой приходилось туго.
Печально закончились опыты англичанина Уильяма Старка, жившего в середине XVIII века. Он хотел доказать, что продукты делятся на «вредные» и «безобидные». Старк выбирал определенный вид пищи и в течение нескольких недель питался только им. Например, пару недель он сидел только на хлебе и воде. Следующий промежуток времени он ел только хлеб, сало и чай. Затем — только мед и пудинг из муки тонкого помола.
В конце концов Старк полностью подорвал свое здоровье, и когда настала неделя сыра честер, он безвременно скончался. Старку было всего 29 лет.
Врач Макс Мошковский, чтобы проверить свою гипотезу о причинах болезни бери-бери, 236 дней ел только шлифованный рис. Его идея подтвердилась: он заболел тяжелой формой бери-бери. После того как одностороннее питание привело к упадку сил, судорогам, нервным болям и сердечной слабости, опыт решено было прекратить. Мошковский выжил, но даже спустя 20 лет последствия этого заболевания все еще давали о себе знать.
Мужественный, но главное — чрезвычайно эффективный эксперимент провел француз Ален Бомбар. Он занимался проблемами выживания в экстремальных ситуациях и пытался ответить на вопрос: почему большинство жертв кораблекрушений умирает в первые три дня? От голода и жажды они должны были бы умереть позже. Ален предположил, что большинство людей могли бы выжить, если бы не их отчаяние, и решил это доказать.
В 1952 году он пересек Атлантический океан на резиновой лодке, не имея никаких запасов пищи и пресной воды. Бомбар питался только планктоном и сырой рыбой, пил сок, который выжимал из рыбы. За 65 дней он проплыл от Канарских островов до Барбадоса. Ален похудел на 25 кг, уровень гемоглобина упал до критической отметки. Но Бомбар остался жив и даже написал книгу о своем опыте. «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда!
Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха!» Об Алене Бомбаре заговорил весь мир.
В результате его эксперимента французские корабли стали оснащать резиновыми лодками, а бесстрашному экспериментатору до конца дней приходили письма от спасшихся людей, которые благодарили его: «Если бы не ваш пример, мы бы погибли».
Большое счастье, если твоя жертва оказалась не напрасна и ты еще при жизни увидел несомненную пользу от своего деяния. А сколько было напрасных жертв! Сколько врачей, которые умерли, так и не узнав, что их теория работает. Но никого это не останавливало. И не останавливает до сих пор. Кажется, в наши-то дни, с нынешней наукой, техникой и прочими микроскопами можно найти другие пути доказательств теории. А врачи по-прежнему продолжают проверять все на себе. Австралийские исследователи Маршалл и Уоренн много лет собирали доказательства того, что причиной гастрита является вовсе не стресс и неправильное питание, а особенная бактерия Helicobacter pylori, которая закрепляется на стенке желудка. В 1994 году, чтобы доказать, что гастрит — инфекционное заболевание, Барри Маршалл выпил содержимое чашки Петри с культурой из этих бактерий. Получил гастрит и Нобелевскую премию.
А что делать? Работа такая.
Еще крутые истории!
- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца
- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей
реклама



























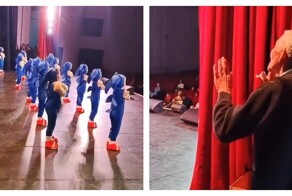



































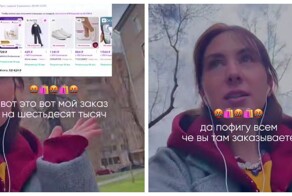


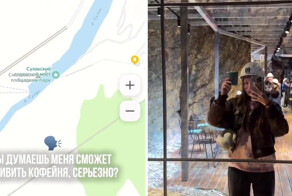

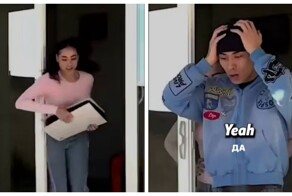





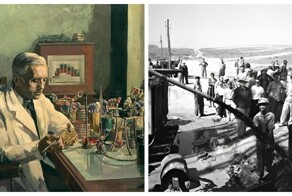

























А ведь миллионы людей ставят на себе эксперименты добровольно посещая МакДональдс,-но это уже идиоты.