3441
1
Летом 41-го мы не только отступали. 19-летний мальчишка из Орла в одиночку дрался с колонной немецких танков.
«Немцы уперлись в него, как в Брестскую крепость»
Коле Сиротинину выпало в 19 лет оспорить поговорку «Один в поле не воин». Но он не стал легендой Великой Отечественной, как Александр Матросов или Николай Гастелло.
«Немцы уперлись в него, как в Брестскую крепость»
Коле Сиротинину выпало в 19 лет оспорить поговорку «Один в поле не воин». Но он не стал легендой Великой Отечественной, как Александр Матросов или Николай Гастелло.
Летом 1941 года к белорусскому городку Кричеву прорывалась 4-я танковая дивизия Хайнца Гудериана, одного из самых талантливых немецких генералов-танкистов. Части 13-й советской армии отступали. Не отступал только наводчик Коля Сиротинин - совсем мальчишка, невысокий, тихий, щупленький.
Если верить очерку в орловском сборнике «Доброе имя», нужно было прикрыть отход войск. «Здесь останутся два человека с пушкой», - сказал командир батареи. Николай вызвался добровольцем. Вторым остался сам командир.
Утром 17 июля на шоссе показалась колонна немецких танков.
- Коля занял позицию на холме прямо на колхозном поле. Пушка тонула в высокой ржи, зато ему хорошо видны были шоссе и мост через речушку Добрость, - рассказывает Наталья Морозова, директор Кричевского краеведческого музея.
Когда головной танк вышел на мост, Коля первым же выстрелом подбил его. Вторым снарядом поджег бронетранспортер, замыкавший колонну.
Здесь надо остановиться. Потому что не совсем ясно до сих пор, почему Коля остался в поле один. Но версии есть. У него, видимо, как раз и была задача - создать на мосту «пробку», подбив головную машину гитлеровцев. Лейтенант у моста и корректировал огонь, а потом, видимо, вызвал на затор из немецких танков огонь другой нашей артиллерии. Из-за реки. Достоверно известно, что лейтенанта ранили и потом он ушел в сторону наших позиций. Есть предположение, что и Коля должен был отойти к своим, выполнив задачу. Но... у него было 60 снарядов. И он остался!
Два танка попытались стащить головной танк с моста, но тоже были подбиты. Бронированная машина попыталась преодолеть речку Добрость не по мосту. Но увязла в болотистом береге, где и ее нашел очередной снаряд. Коля стрелял и стрелял, вышибая танк за танком...
Танки Гудериана уперлись в Колю Сиротинина, как в Брестскую крепость. Уже горели 11 танков и 6 бронетранспортеров! То, что больше половины из них сжег один Сиротинин, - точно (какие-то достала и артиллерия из-за реки). Почти два часа этого странного боя немцы не могли понять, где окопалась русская батарея. А когда вышли на Колину позицию, у того осталось всего три снаряда. Предлагали сдаться. Коля ответил пальбой по ним из карабина.
Этот, последний, бой был недолгим...
«Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?»
Эти слова обер-лейтенант 4-й танковой дивизии Хенфельд записал в дневнике: «17 июля 1941 года. Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости... Оберст (полковник) перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?»
- Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка. Туда же заставили прийти и нас, местных жителей, - вспоминает Вержбицкая. - Мне, как знающей немецкий язык, главный немец с орденами приказал переводить. Он сказал, что так должен солдат защищать свою родину - фатерлянд. Потом из кармана гимнастерки нашего убитого солдата достали медальон с запиской, кто да откуда. Главный немец сказал мне: «Возьми и напиши родным. Пусть мать знает, каким героем был ее сын и как он погиб». Я побоялась это сделать... Тогда стоявший в могиле и накрывавший советской плащ-палаткой тело Сиротинина немецкий молодой офицер вырвал у меня бумажку и медальон и что-то грубо сказал.
Гитлеровцы еще долго после похорон стояли у пушки и могилы посреди колхозного поля, не без восхищения подсчитывая выстрелы и попадания.
Как Коля Сиротинин оказался в братской могиле.
Сегодня в селе Сокольничи могилы, в которой немцы похоронили Колю, нет. Через три года после войны останки Коли перенесли в братскую могилу, поле распахали и засеяли, пушку сдали в утильсырье. Да и героем его назвали лишь через 19 лет после подвига. Причем даже не Героем Советского Союза - он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
Лишь в 1960 году сотрудники Центрального архива Советской армии разведали все подробности подвига. Памятник герою тоже поставили, но нескладный, с фальшивой пушкой и просто где-то в стороне.
Если верить очерку в орловском сборнике «Доброе имя», нужно было прикрыть отход войск. «Здесь останутся два человека с пушкой», - сказал командир батареи. Николай вызвался добровольцем. Вторым остался сам командир.
Утром 17 июля на шоссе показалась колонна немецких танков.
- Коля занял позицию на холме прямо на колхозном поле. Пушка тонула в высокой ржи, зато ему хорошо видны были шоссе и мост через речушку Добрость, - рассказывает Наталья Морозова, директор Кричевского краеведческого музея.
Когда головной танк вышел на мост, Коля первым же выстрелом подбил его. Вторым снарядом поджег бронетранспортер, замыкавший колонну.
Здесь надо остановиться. Потому что не совсем ясно до сих пор, почему Коля остался в поле один. Но версии есть. У него, видимо, как раз и была задача - создать на мосту «пробку», подбив головную машину гитлеровцев. Лейтенант у моста и корректировал огонь, а потом, видимо, вызвал на затор из немецких танков огонь другой нашей артиллерии. Из-за реки. Достоверно известно, что лейтенанта ранили и потом он ушел в сторону наших позиций. Есть предположение, что и Коля должен был отойти к своим, выполнив задачу. Но... у него было 60 снарядов. И он остался!
Два танка попытались стащить головной танк с моста, но тоже были подбиты. Бронированная машина попыталась преодолеть речку Добрость не по мосту. Но увязла в болотистом береге, где и ее нашел очередной снаряд. Коля стрелял и стрелял, вышибая танк за танком...
Танки Гудериана уперлись в Колю Сиротинина, как в Брестскую крепость. Уже горели 11 танков и 6 бронетранспортеров! То, что больше половины из них сжег один Сиротинин, - точно (какие-то достала и артиллерия из-за реки). Почти два часа этого странного боя немцы не могли понять, где окопалась русская батарея. А когда вышли на Колину позицию, у того осталось всего три снаряда. Предлагали сдаться. Коля ответил пальбой по ним из карабина.
Этот, последний, бой был недолгим...
«Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?»
Эти слова обер-лейтенант 4-й танковой дивизии Хенфельд записал в дневнике: «17 июля 1941 года. Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости... Оберст (полковник) перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?»
- Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка. Туда же заставили прийти и нас, местных жителей, - вспоминает Вержбицкая. - Мне, как знающей немецкий язык, главный немец с орденами приказал переводить. Он сказал, что так должен солдат защищать свою родину - фатерлянд. Потом из кармана гимнастерки нашего убитого солдата достали медальон с запиской, кто да откуда. Главный немец сказал мне: «Возьми и напиши родным. Пусть мать знает, каким героем был ее сын и как он погиб». Я побоялась это сделать... Тогда стоявший в могиле и накрывавший советской плащ-палаткой тело Сиротинина немецкий молодой офицер вырвал у меня бумажку и медальон и что-то грубо сказал.
Гитлеровцы еще долго после похорон стояли у пушки и могилы посреди колхозного поля, не без восхищения подсчитывая выстрелы и попадания.
Как Коля Сиротинин оказался в братской могиле.
Сегодня в селе Сокольничи могилы, в которой немцы похоронили Колю, нет. Через три года после войны останки Коли перенесли в братскую могилу, поле распахали и засеяли, пушку сдали в утильсырье. Да и героем его назвали лишь через 19 лет после подвига. Причем даже не Героем Советского Союза - он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
Лишь в 1960 году сотрудники Центрального архива Советской армии разведали все подробности подвига. Памятник герою тоже поставили, но нескладный, с фальшивой пушкой и просто где-то в стороне.
Источник:
Ссылки по теме:
- Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
- Позорная смерть: за что вешали преступников в СССР
- Спустя 75 лет редкий орден нашёл своего героя
- Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев
- Взлет и "падение" советского сверхзвукового Ту-144
реклама


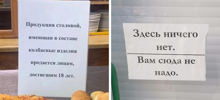




























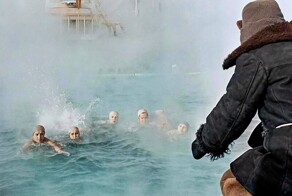
























"Через пятнадцать лет после войны рассказ о подвиге артиллериста записал Михаил Мельников - участник войны, заслуженный деятель культуры БССР, историк, основатель Кричевского краеведческого музея. Он провел целое расследование, чтобы документально подтвердить невероятную «легенду».
Перебрав гору бумаг и опросив сотни местных, выяснил, что бой у моста через Добрость действительно был, даже установил день - 17 июля. Очевидцы показали место, откуда стреляло наше орудие.
Чуть позже подтверждение нашлось и в захваченных немецких документах. Свидетелем подвига русского солдата стал участник того боя - обер-лейтенант Фридрих Хенфельд. В дневнике офицер записал:
17 июля 1941 года. Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости… Оберст перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?
Выяснить, как зовут солдата, помог случай. Когда немцы хоронили героя, нашли у него солдатский медальон. Чтобы прочитать его, в качестве переводчика привлекли жительницу Сокольнич Ольгу Вербжицкую, хорошо знавшую немецкий язык. Она и вспомнила его имя и фамилию - Николай Сиротинин.
Переписка с военкоматами и Министерством обороны позволила установить, что родился Николай в 1921 году в Орле. За год до начала войны был призван в Красную Армию. Старший сержант, наводчик орудия. Отец, мать и сестры ничего о его судьбе не знали, он числился пропавшим без вести.
Обо всем этом Михаил Мельников написал в статье, опубликованной в 1960 году в «Литературной газете». Она называлась красноречиво: «Это не легенда». Таков был ответ всем тем, кто не верил в эту историю.
Подвиг героя получил всесоюзное признание. Николай Владимирович Сиротинин посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его именем назвали улицу в Кричеве, где находится братская могила. В начале 1960-х годов родители побывали на могиле сына и на месте его гибели.
Историки продолжают искать документальные свидетельства.
Несколько лет назад группа любителей истории стала обсуждать нестыковки: в описаниях героического эпизода в различных источниках не совпадают номера воинских частей, количество убитых немцев, некоторые детали боя.
Выяснили, что в тот день подступы к Кричеву оборонял второй батальон 409-го стрелкового полка. Задача перед командиром Николаем Кимом стояла непростая: на несколько часов задержать немцев. Противостояла советским бойцам ударная группа полковника Генриха Эбербаха, а точнее, второй батальон 35-го танкового полка и седьмого разведбата. Бой начался рано утром, к полудню немцы уже заняли город.
Было странно, что позже Николай Ким в своих мемуарах ни о каком Сиротинине и одинокой пушке не говорил.
Тогда и отыскали воспоминания Сергея Ларионова - командира пулеметной роты батальона Кима. Он писал, что перед тем как они заняли рубеж обороны перед Добростью, к ним присоединилось одинокое орудие. В разгар боя слышал пушечные выстрелы на левом фланге обороны. Назвал Ларионов и количество уничтоженных танков - тринадцать. Два сожгли его бойцы, остальные - та самая одинокая пушка.
До сих пор не все понятно в этой истории. Что случилось с боевым расчетом? Поиск документов продолжается. Но главное очевидно: подвиг Николая Сиротинина - не миф.
Верю ли я, что такие герои были и совершали подобное описанному? Да, верю, были стальные люди, отдавшие свои жизни ради спасения других и будущей победы.
Верю ли я, что именно так все и было? Нет, не верю. Так быть не могло. По ряду чисто физических причин. Например, только слепой не увидит расположение орудия по выстрелу. Тем более, в поле с травой. Было иначе, но я верю, что было, могло быть.
1. Лето 1941 г. 17 июля. Т.е. война началась меньше месяца назад. Пацаненку было 19 лет. Очевидно, что толком на артиллериста он не учился. И вопрос: как человек без опыта обращения с вундервафлей стрелял с такой результативностью?
2. Если это была сорокопятка, то у нее расчет 4 человека. Т.е. один боец отрабатывал за 4-х человек - после каждого выстрела, он перезаряжал пушку, занимал место наводчика, неспеша наводился, стрелял и все за ново. Попутно в бешеном ритме тягал снаряды. И так два часа? Для этого вражеская техника должна не двигаться, а солдаты сидеть компактно и на виду. Но... об этом чуть ниже.
2. Первым был подбит головной танк в колонне. Этот танк только вошел на мост. Т.е. все остальные танки были не на мосту. По описанию местности, я понял, что это было в полях. Т.е. не было ситуации, как у наших в афганских ущельях, когда подпили первую и последнюю машину, а все машины между ними расстреливали как в тире, ибо тем некуда была свернуть. Тут немецкие машины имели реальную возможность рассредоточиться по полям, постоянно двигаться и не быть легкой мишенью. Почему немцы этого не сделали?
3. За два часа 57 выстрелов. Допустим. Но кадровые военные не смогли вычислить эту пушку за два часа с такой частотой стрельбы? При том, что она стояла в поле пшеницы, почти ею скрытой? Утверждать не буду, но уверен, что после первого выстрела позиция была демаскирована, т.к. выхлопом пушки пшеницу на холме в радиусе пяти метров должно было просто снести оставив голую поляну. А дальше дело техники: рассредоточенные боевые машины ведут по пушке огонь из пушек и пулеметов. Подавить эту пушку делов минут на 5-10.
4. Наверное, самый главный вопрос: почему наши войска, отступая не взорвали мост, а оставили пушку с задачей подбить на мосту кого ни будь, а потом догнать своих? Командир не знал, что если подпить танк на мосту, то его за 10 минут оттянет другой танк и колонна продолжит движение?
5. Наша артиллерия била из за реки по танкам. Кого то подбила. В конце концов, немецкие машины перешли реку. Судя по тому, что есть описание, что броневик увяз в болотистом дне, то машины перешли реку по посту. Вопрос знатокам: почему наша артиллерия била по танкам, а не разрушила мост, раз уж провтыкали подорвать его при отходе?
6. Увязший в реке броневик не представлял угрозы для стрелка, т.к. он был на холме, а броневик в низине. Даже, думаю, что боец этот броневик не мог видеть, но это не точно. Зачем тратить снаряды на машину, которая не представляет из себя тактической цели?
7. Немец написал, что расстреливал колонну танков и пехоту. По пехоте бронебойными стрелять бесполезно. Как из пушки по воробьям. По пехоте нужно быть осколочными или фугасными. При чем, по рассредоточенной пехоте можно вообще не стрелять, ибо бесполезно. По танкам стрелять осколочными бесполезно. Ну да ладно. У бойца должны были быть осколочные и бронебойные снаряды. Каждый раз заряжая пушку, он уже должен был понимать по кому стреляет. При том, что он сразу заряжал, а потом выбирал цель. Как он выбирал цель? Как он знал расположение вражеских сил, которое будет после того, как он перезарядит пушку и займет место наводчика, наведется, а потом покинет место наводчика и спустит "курок" пушки?
8. Из за реки стреляла наша артиллерия. Тоже кого то подбила. А почему нельзя было сразу бить из за реки по танкам? Допускаю, что нужно было время что бы развернуть батарею. Но тогда почему взяли только позицию Коли? Куда делать артиллерия, которая била из за реки?
Это не все вопросы.
Думаю, что там была не одна пушка и не один человек. Слишком много было подбито техники. Нашли только одну пушку и одного человека, потому, что в пушку попали, и не было смысла с ней отступать. А пацаненок погиб возле этой пушки или был тяжело ранен, что бы его можно было забрать при отступлении.
Я не сомневаюсь в геройстве наших, факт боя и его результат под сомнение не ставлю, но мне сдается, что в этой истории много белых пятен и недоговорок.
Реконструкторы, как то на волне патриотизма пытались смоделировать подобный бой. Уже и не вспомню где это читал. Вместо танков были буханки, которые двигались на первой передаче. Сорокопятка была музейным экспонатом - все работало, только не стреляла. Результат фиксировали на видеокамеру, установленную вместо прицела. Условно момент выстрела фиксировали по таймингу видеокамеры. Скажем, так, результат реконструкции был так себе. Понимаю, что эксперимент не отличался особой чистотой и действовал расчет пушки 4 человека. Не было адреналина настоящего боя. Удалось поразить 2 машины из четырех. Дальность условного поражения 500-300 метров. Потом буханки вошли в "мертвую зону", т.е. их передвижение было быстрее, чем расчет пушки мог реагировать на них. Остальные две машины подошли к пушке в упор. Если допустить, что уже с пятисот метров могли прицельно работать бортовые пулеметы танков, мне думается, что и подходить в упор к пушке для ее уничтожения не было практического смысла. Две выжившие буханки заходили с флангов. Артиллеристы просто не успевали реагировать на их передвижение.
Пойми меня правильно, я за историческую правду. Хочу гордиться реальными подвигами, а не пропагандой.
А почему не могли?! Ладно бы из гаубицы навесной траекторией, но ведь прямой наводкой стрелял. Немцы тупые такие, что не могли за полчаса максимум определить место? Впрочем не мое дело...просто сомнения.
Кстати, оговорочка про УПА случайная или таки нет ?
Ну х_уёво быть тобой чо.
Да еще в таком возрасте. Ты всегда был тупой или с возрастом стал тупой ?
Страсть как хочется понять о чём речь.
врагов, ни друзей. Против кого тогда воин?
Все, что вываливается в псевдопатриотических кругах. Только факты.
У Солонина теперь свой канал. Вот он сам про блокаду и рассказывает. В трёх частях.