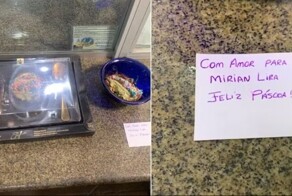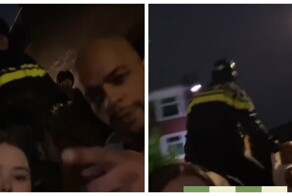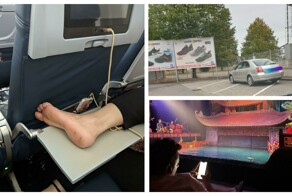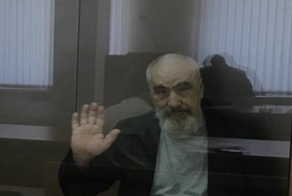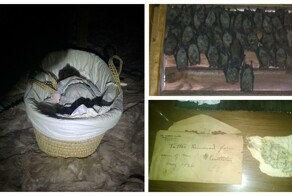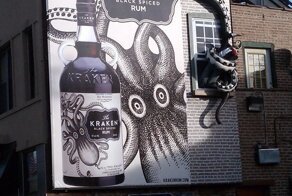Синди живет в Голландии, Максим – в Белоруссии. У обоих – психическое расстройство. Оба в какой-то момент думали, что из-за болезни жизнь закончилась. Они встретились на конференции в Минске. Мы хотели сделать статью, просто слушая их разговор: думали, что у людей с такими похожими судьбами будет масса общих тем. Но быстро стало понятно – не выйдет. Уже через 10 минут вопросы задавала только я, Синди отвечала, а вот Максим ...больше – грустно улыбался.
Во время перерыва я пыталась понять, что не так. Точно не в языковом барьере – Максим хорошо говорит на английском. Мужчина объяснил.
– О чем нам общаться, у нас же почти нет ничего общего?! Ну, похожие биографии, и что? У Синди есть дочь, у меня нет семьи, …и не предвидится. Синди может выбирать, где ей работать, а мне кроме работы в Клубном доме некуда идти, мне ничего не светит.
Стало ясно: это история не о схожем, она – об отличиях. И о том, что мы с вами можем сделать для того, чтобы и в Белоруссии люди после таких больниц могли стать счастливыми и никогда туда больше не возвращаться.
Клубный дом – это организация, которая работает в разных странах (в том числе, в Белоруссии) и помогает людям с психическими расстройствами «вернуться» к нормальной жизни.
Люди собираются вместе, готовят еду, убирают, общаются, учат английский или делятся друг с другом своим опытом. Кажется, такие простые действия. Но некоторые члены Клубного дома – минчане – годами не покидали пределы своих квартир. Для них уже сам факт того, что нужно проснуться утром и куда-то приехать – большой прорыв. Клубный дом возвращает веру в себя. Человек снова чувствует, что нужен, может принести пользу.
В Амстердаме и Минске Клубные дома не сильно отличаются друг от друга. Но оказалось, что государственные системы помощи людям с психическими расстройствами в Голландии и Белоруссии сильно отличаются. Для Максима Клубный дом – это единственное место, где он может рассчитывать на помощь. А для Синди эта организация стала просто ступенькой в большую жизнь. Кроме Клубного дома ее поддержало государство, бизнес и общество.
А в Минске Клубный дом, с одной стороны, заменяет собой практически всю систему помощи людям с психическими расстройствами после выхода из больницы. С другой – постоянно на грани выживания, потому что денег на оплату элементарного постоянно не хватает. Клубный дом живет только на пожертвования и постоянно помогает людям, которые выходят из больниц очень замкнутыми. Специалисты проекта помогают им реабилитироваться и находить новую работу, но эффект будет куда большим, если все общество обратит внимание на эту проблему.
Одинаковое начало пути
Максим: Я слышал, у вас была депрессия?
Синди: Да, так и было.
Максим: У меня тоже все начиналось с депрессии. Мне казалось, что сильно сдавливает грудь. Я ее не лечил, такое состояние длилось два года. За это время я бросил работу, учебу, девушку, переехал жить к родителям. А потом случился психоз, и я попал в психиатрическую больницу. Там поставили диагноз «шизотипическое расстройство». Это распространенный у нас диагноз. После больницы год просто провел дома: депрессия стала намного сильнее, чем до госпитализации, добавилась еще "побочка" от лекарства.
Синди: И как вы справились?
Максим: На тот момент ненадолго мне помогла работа. Врачи сказали: или иди работай, или ставим инвалидность. Я устроился на первую попавшуюся работу, которую мне предложили на бирже труда – грузчиком. Перестал пить лекарства и чувствовал себя хорошо. Учился, работал. Думал, что я нормальный, что тот эпизод был каким-то недоразумением. Надеялся, что скоро все будет хорошо и моя жизнь будет прежней. Но через три года снова случился психоз, и я снова оказался в больнице. Вот тогда пришло осознание, что я болен, что мне нужно пить лекарства.
А как начиналась ваша болезнь?
Синди: Сложно сказать, когда именно. Я была активной: много работала, путешествовала. Энергия зашкаливала. Но потом наступала депрессия. Во время депрессии я часто не могла даже встать с кровати. При особо острых состояниях появлялись мысли о самоубийстве. Я обращалась к врачам, но лечение помогало только на какое-то время. С 21 года до 31 я все время ходила по кругу: активная работа – депрессия – кризис – выход из кризиса – активная работа – депрессия и так далее.
Состояние все ухудшалось. В 31 год я попала в больницу. Тогда и обнаружили, что все эти годы лечили не то: у меня – биполярное расстройство. При этой болезни человек то очень активен, крайне работоспособен, то впадает в депрессию. Мне назначили другое лечение.
После больницы. Различия начинаются
Автор: Как ваше окружение отнеслось к болезни?
Синди: Все родные знали мою историю, они поддерживали меня. Я боялась рассказать о своей болезни друзьям, которые меня давно не видели, но ничего не стала скрывать. Все они остались со мной. Кто-то из друзей потерялся, но не думаю, что из-за болезни. Так теряются друзья после школы и университета: они расходятся, потому что живут разными жизнями.
Максим: Меня все «прессовали». Врач не воспринимает тебя как личность. Родители начали относиться ко мне как к маленькому ребенку, который не может за себя отвечать. Друзья исчезли еще после первой госпитализации: однажды пришли ко мне и сказали, что не будут со мной общаться. Не могу сказать, что это было для меня ударом. Я тогда уже был в тяжелой депрессии, это просто добавило свою лепту в мое состояние. Больше я ни с кем не сближался.
После второй госпитализации я никого не потерял из-за болезни, потому что у меня никого и не было.
Автор: Как вы сами восприняли свою болезнь?
Синди: Я очень стыдилась болезни, гнобила себя. Вся жизнь разделилась. Я была обычным, полноценным человеком, строила планы, а потом поняла, что больна. Я всегда думала, что люди с психиатрическим бэкграундом – сумасшедшие, не способны на нормальную жизнь. И вот я – одна из них. Я решила, что мой мир, моя жизнь закончилась. Была уверена, что больше не способна ничего контролировать, ничего делать. А самое ужасное, что это подтверждалось: первое время я действительно мало что могла из-за депрессии.
У меня есть дочь. Когда я вышла из больницы, ей было всего три года. Детям нужно постоянно что-то давать. А я не могла ей ничего дать, потому что я сама была пустой.
Максим: Я не мог совершать обычные действия. Долго приходил в себя после больницы: ты понимаешь, что твоя жизнь полностью разрушена. Не видел будущего. У меня ушло 4 года на то, чтобы принять болезнь. Но мне не было стыдно. В конце концов, я просто перешел из одной группы общества в другую – я стал ненормальным.
Синди: Я впервые вижу человека, который не стыдился своей болезни!
Максим: Вы были нормальны, я был нормальным. Но после госпитализации мы попали в другую позицию. Мы оба были поставлены в эту ситуацию не по собственной воле.
Клубный дом в Минске и Clubhouse в Амстердаме
Во всем мире работает 340 Клубных домов, которые каждый год помогают более ста тысячам (!) человек. Это не служба и не программа лечения, а система поддержки для людей, живущих с психическими заболеваниями. Люди приходят сюда, вместе занимаются, готовят еду, отдыхают, разговаривают. Все здесь равны, никто никого не опекает, каждый несет ответственность за себя. Такая атмосфера помогает людям снова поверить в свои силы. Клубные дома помогают людям найти работу. И что еще важнее – повышают качество жизни. Человек, который не посещает Клубный дом, периодически попадает в больницу. А число госпитализаций постоянных участников стремится к нулю.
Клубные дома работают по одному стандарту. Разница только в том, какие возможности у них есть. Например, в Клубном доме в Минске есть только 4 сотрудника: соц. педагоги и юрист. Организация живет только на пожертвования. А в одном из Клубных домов Лондона только трудоустройством подопечных людей занимается 6 человек. В некоторых странах, например, Германии, Клубный дом финансируется государством и работает как часть государственной системы реабилитации людей с психическими расстройствами. Это значит, что человеку не нужно искать эту организацию самому: еще в больнице его направят сюда, если нужно.
Автор: Как вы вышли из тяжелого состояния?
Синди: До того момента, как я попала в Клубный дом, все время была дома наедине со своей депрессией. Если мне кто-то звонил и спрашивал: «Как дела», я просто отвечала, что все в порядке. Знала, что они не смогут меня понять. А в Клубном доме я нашла тех, кто меня понимал. Эти связи были очень важны. Даже если я не приходила — не могла прийти из-за депрессии – они звонили мне, спрашивали, как я. Им я могла рассказать правду, становилось легче.
И главное – благодаря Клубному дому я поняла, что что-то могу. Я могу встать, я могу принять душ, открыть дверь и доехать до Клубного дома. Эти маленькие шаги играли решающую роль. Без них не было бы ничего дальше. Я стала крепнуть, появилось желание что-то делать.
Максим: Я пришел в Клубный дом и впервые за долгое время почувствовал уважение. Ко мне относились как к обычному взрослому человеку. Мне давали право выбора. Поэтому я стал приходить каждый день. Атмосфера – вот что было самое главное для меня, то, что исцеляло. Там я почувствовал, что жизнь не закончилась, она может продолжаться.
Автор: На какие средства вы жили в то время?
Синди: Мне повезло – мои родные мне очень помогали. Государство тоже помогает, выплачивает пособие. Выплаты небольшие, но их хватает на то, чтобы жить: оплачивать коммунальные, покупать еду и одежду.
Максим: У меня нет инвалидности, так что выплат мне никаких не положено. Помогали родители.
Выход в большую жизнь. У Синди – много путей. У Максима – тупик
Автор: После того, как вам стало лучше, какие возможности у вас были?
Синди: В Голландии есть много разных форм помощи людям с инвалидностью и, в том числе, с психическими расстройствами. Можно стать волонтером, можно работать неполную или полную рабочую неделю. Найти работу не так уж сложно – особенных препятствий нет.
Клубный дом тоже помогает с работой, сотрудничает с многими компаниями. Это называется «программа промежуточного трудоустройства». Через эту программу я пошла на свою первую после больницы работу – в пятизвездочном отеле занималась сервисным обслуживанием номеров. Два года проработала там, потом год посвятила учебе. А потом узнала, что в Клубном доме есть вакансия и подумала, что я могу быть полезна людям здесь.
Теперь я – член тренерского состава Clubhouse International, помогаю улучшать охрану психического здоровья, веду тренинги, консультирую людей.
Максим: Человеку с психическим расстройством сложно найти работу, даже если никаких противопоказаний нет. Я знаю много историй, когда человек хочет и может работать, но как только работодатель узнает о его диагнозе, в работе отказывает. Я год был волонтером в Клубном доме. А потом появилась возможность устроиться на работу сюда социальным работником. Меня оформили, теперь я помогаю людям восстанавливаться. Многие за время болезни и из-за того, что долгие лет сидят в четырех стенах, утрачивают элементарные навыки: сварить гречку, например.
Блиц-опрос
Жизнь сейчас. Синди: «Болезнь обогатила мою жизнь». Максим: «Живу сегодняшним днем»
— При обычном разговоре с человеком, который вас плохо знает, скроете ли вы тот факт, что у вас есть психическое расстройство?
Синди: Нет. Зачем? Нужно быть тем, кто ты есть. Если у человека проблемы с сердцем, он же не будет это скрывать. То же самое и с болезнью психики. Это такая же болезнь. Сейчас я не стыжусь своей болезни.
Максим: (смеется). А это смотря, какой человек. Если плохой – расскажу. Он сразу и исчезнет из моей жизни. Вы знаете, эта история изменила мое отношение к людям. Я стараюсь не общаться с теми, кто далек от темы психического здоровья. Если обычный человек узнает мою историю, он отстраняется. Потому если это обычный человек, скорее всего, не скажу.
— Как бы вы, одним словом описали отношение к людям с психическими расстройствами в вашей стране?
Синди: Понимание.
Максим: Как к ленивому. А на самом деле человек задыхается, он тонет.
— Как назвали бы систему помощи в вашей стране?
Синди: Переход от заботы к поддержке. Раньше заботились как о маленьких детях. Сейчас тебе предоставляют то, в чем ты нуждаешься. Хочешь работать – выбирай, пока нет сил работать, но хочешь быть полезен – иди волонтером. Ты можешь выбирать, как жить. Много свободы.
Максим: По медицинскому учебнику. Лекарства пропишут, на этом все.
— Какая главная проблема людей с психическим расстройством, на ваш взгляд?
Синди: Внутренняя стигма. Отношение к самому себе.
Максим: Стояние в углу. Такое чувство, что тебя поставили в угол как маленького ребенка. И ты не можешь оттуда выйти. Ты виноват в том, что болен.
— Как болезнь отразилась на личной жизни?
Синди: Сейчас я приняла свою болезнь и уже много лет контролирую ее. Мои друзья смеются, что я – самый уравновешенный человек из всех, кого они знают. Я не могу сказать, что счастлива с болезнью, но я в порядке. Работа над ней сделала меня взрослее.
Теперь благодаря болезни я делаю те вещи, которые никогда не делала. Путешествую, общаюсь с людьми, помогаю им. Вот даже сейчас участвую в конференции здесь, в Белоруссии. Я никогда не думала, что способна на такие вещи! Сейчас болезнь обогащает мою жизнь.
Максим: У меня нет личной жизни. Моя жизнь – это работа-дом-работа. Круг общения – люди, близкие к теме психического здоровья. Я не строю планы, просто живу сегодняшним днем. Иногда подкатывает депрессия – пью антидепрессанты. О чем мечтаю? У меня бессонница, мечтаю засыпать без таблеток.
Что нужно делать в Белоруссии, чтобы люди с психиатрическими диагнозами тоже могли быть счастливыми?
Между Максимом и Синди – пропасть. Знаете, почему? Люди с психиатрическими диагнозами в Белоруссии сталкиваются с тремя основными проблемами.
1. Многие после больницы остаются без денег.
После выписки люди должны пить таблетки. Эти таблетки часто дают сильный побочный эффект, и человек просто не может работать. Но далеко не все люди с психическими расстройствами получают инвалидность, а значит – не получают никакой финансовой помощи от государства и не могут воспользоваться льготами, которые положены людям с инвалидностью.
2. Им сложно найти работу. Больших ограничений нет — работодатели просто боятся диагноза и отказывают.
Синди вышла на работу, как только поняла, что у нее появились для этого силы. Многие белорусы годами не могут никуда устроиться, хотя у них есть и силы, и квалификация, и опыт. Нет такого психиатрического диагноза, при котором человек не имеет права работать вообще. Есть определенные ограничения на некоторые профессии и опасные условия труда, не более того. Несмотря на это, в Белоруссии работодатели часто боятся брать на работу таких людей, когда слышат о диагнозе. И отказывают.
3. Сильная стигматизация. Мало того, что окружающие отвергают, сам больной начинает винить себя за свою болезнь и в итоге замыкается в четырех стенах.
Синди стыдилась своей болезни. Но ее окружение ее поддержало, что помогло ей с этим справиться. Людей с психическими расстройствами в Белоруссии опасаются знакомые, не принимают друзья, чрезмерно опекают или стыдятся родные. В итоге они замыкаются в себе, перестают общаться с людьми, выходить из дома. И это мешает им принять свою болезнь. Как результат – новые депрессии, новые госпитализации.
Что может сделать государство, общество, бизнес, люди? Ваше мнение.
Некоторые предложения, при желании, Вы найдёте в ссылке-источнике.
----------------------------------
PS от SandMANn: с учётом деликатной (в том числе и личной) темы единственная просьба к возможным комментирующим – пожалуйста, не стоит рассказывать "страшилки", шутить и ёрничать (лучше пройдите мимо).
Источник:
- Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания
- Фотографии, которые сведут вас с ума, пока вы в них не разберетесь
- Дети, которые появились на свет с редчайшими дефектами и заболеваниями
- 15 человек, которые могут остановить движение своим уникальным видом
- 8 научных открытий, которые изменили мир, а мы и не знали