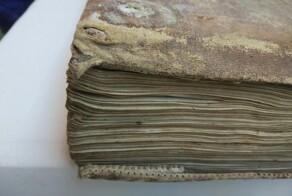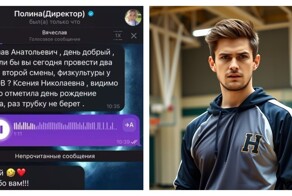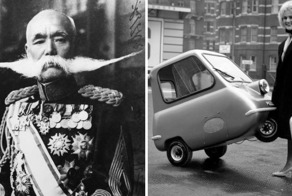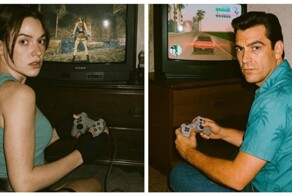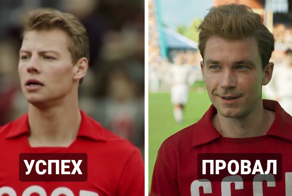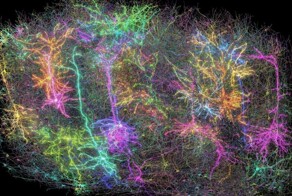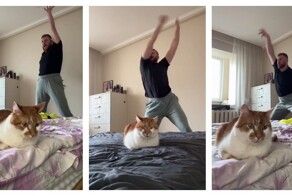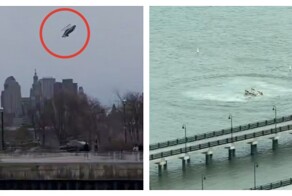Режиссёр Алексей Смирнов снял для Первого канала сериал «Садовое кольцо» в возрасте 25 лет, а в 2018 году появился на экранах в качестве актёра в фильме своей сестры Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Обозревателю «Я люблю кино» и Fishki удалось встретиться с Алексеем и побеседовать с ним о творческих планах, личной жизни и его отце, режиссёре фильмов «Белорусский вокзал» и «Жила-была одна баба» Андрее Сергеевиче Смирнове.
- В 2018 году получилось так, что ты одновременно выстрелил и как режиссёр сериала «Садовое кольцо», и как актёр в фильме «История одного назначения». За каким проектом ты следил больше, и какую критику ты острее воспринимал: что снял плохо или что сыграл неважно?
- Я больше следил за «Садовым кольцом», это всё же моё детище, да и режиссёрских амбиций у меня несколько больше.
Что же касается критики, у меня с раннего детства есть такое развлечение: когда мне скучно, я ввожу в интернете что-то вроде «Андрей Смирнов русофоб» или «Дуня Смирнова проститутка» и читаю гадости про свою семью. Я уже давно перестал воспринимать это серьёзно. Мало на кого вылили столько говна, сколько на моих родичей. Я считаю, что люди имеют полное право ненавидеть меня (и полное право любить). Не могу сказать, что меня это хоть как-то задевает. Я же всё-таки кино делаю в первую очередь для себя, не для окружающих.
И на тот, и на другой проект было много и позитивных отзывов, и негативной критики, порой очень полезной. Но хуже всего отношусь к тому, что я делаю, я сам, ведь я вижу и там, и там столько стыдных, позорных огрехов, сколько никто не видит.
- Какими референсами ты руководствовался при съёмках «Садового кольца»?
- Титры мы украли с «Карточного домика» (House of Cards). Вернее, не украли, у них более сложная композиция, с движущейся тенью. Как-нибудь сядь, разбери их, посмотри, как это придумано — это дико интересно.
- Я их пропускал обычно.
- Зря, они классные. У нас титрами занимался мой близкий друг, режиссёр Иван Барышев. Мы понимали, что хотим аллюзию на стиль «Карточного домика», и во многом вдохновлялись его визуальной составляющей. Также мы ориентировались на произведения Сэма Мендеса, незабвенного режиссёра «Красоты по-американски» (American Beauty). И фильмом «Исчезнувшая» (Gone Girl).
- Ранее в интервью ты упоминал, что понимаешь образ мысли людей, живущих в пределах Садового кольца, что они и бесят, и жалость вызывают…
- Ну не только жалость, много разных чувств. Это ведь такие же люди, как везде, только они живут в пределах Садового, хорошо зарабатывают, и у этого есть свои последствия. Это не значит, что я считаю, что все богатые — мрази, я совсем не это имею в виду. Мы уже живём вне жанров, так что неверно воспринимать «Садовое кольцо» как социалку. Эта история ровно с теми же отношениями может произойти где угодно и с кем угодно, только несколько в других декорациях и, наверное, в другом быту, который тоже накладывает свой отпечаток на взаимодействия между людьми. У этих героев есть возможность делать бесконечные маникюры, сидеть в бесконечных кафе и жрать эти мильфеи, а у многих людей таких возможностей нет.
- Но всё же обитателям Садового кольца свойственны определённые поведенческие признаки. Я знаю, что когда Пётр Буслов и Семён Слепаков делали «Домашний арест», они заставили Павла Деревянко и Сергея Бурунова слушать записи телефонных разговоров Бориса Березовского, чтобы те поняли, как разговаривают подобные персонажи.
- Класс, не знал.
- А вот у тебя бывали случаи, когда ты останавливал актёра и говорил: «Стоп, буржуазия так не говорит!»?
- Во-первых, «буржуазия» сейчас у нас в Москве очень размытое понятие. Наверное, героев «Садового кольца» можно отнести к буржуазии из-за заработка, но не рода занятий.
Что касается стиля поведения и речи, то я рассказывал актёрам истории. Например, во время поисков локации для съёмок я познакомился с одной дамой, она сидела вся такая расстроенная в своей огромной квартире. У неё собака родила щенка, и на него одновременно претендовали главный редактор глянцевого журнала и популярный поп-исполнитель.
То есть, мы отталкивались от психологии такого рода людей, образа их жизни, работы. Понятно, что Андрей (Анатолий Белый) — это человек, который в жизни много вёл переговоры, а у Веры (Мария Миронова) когда-то в древности было психологическое образование, которым она никогда не пользовалась.
- На «Битве кинокритиков» ты упомянул, что, хотя персонажи сериала во многом мерзкие люди, интересно искать в их поведении несвойственные им моменты, позволяющие сочувствовать этим героям. А кому из персонажей сериала тебе проще всего сочувствовать?
- Да я всем, наверное, сочувствую.
- Как режиссёру, тебе положено.
- Но так не всегда бывает. Я сочувствую им, потому что во всех их злокачественных проявлениях я во многом узнаю себя, своих близких, да и вообще людей.
Моя тётушка из Ростова-на-Дону, не имеющая отношения к кино, посмотрела эту картину. Я помню, как она сидела и говорила: «Господи, так же не бывает, это же совсем беспросветно». И матушка моя ей говорит: «А у тебя в жизни так не было?». И та задумалась и сказала: «Да нет, ещё хуже было, пожалуй».
Я не мизантроп по своей природе. Но мне важно было показать, что каждый из этих людей глубоко несчастен. И, как и все люди на свете, они сами в этом виноваты. Но если для кого-то важен вопрос: «Кто виноват?», мне интереснее тот факт, что они несчастны.
- Но если убрать вопрос: «Кто виноват?», остаётся: «Что делать?».
- В этом и заключается прелесть финала данной истории. Это то, что меня больше всего соблазнило в сценарии. Мне кажется, что кино вообще не должно давать ответов. Я думаю, что для того, чтобы окончательно избавиться от дурной части советского наследия, надо в первую очередь вспомнить, что кино не должно ничему учить и не должно ничего пропагандировать. Оно должно задавать вопросы, а не давать ответы. Как и Вера в финале: когда они фотографируются и у неё меняется лицо, это значит, что она видит то, что вокруг неё происходит. Но знает ли она, что делать? Конечно нет.
- К слову о советском и российском наследии...
- Я с большой нежностью отношусь к своим коллегам, я безусловно вырос на русской культуре. Я считаю, что в России сейчас огромное количество замечательных режиссёров, мы их все знаем. Недавно была оглушительная «Аритмия». В этом году я, к сожалению, пока не смотрел большинство представленных на «Кинотавре» работ, но я думаю, что там должны быть несколько замечательных картин.
- И всё же, ты говорил, что хочешь уехать в США, работать там?
- Моя проблема в том, что я вырос также и на голливудском кино (и в особенности на сериалах). К своему большому сожалению, я не могу не отдавать себе отчёт в том, что с точки зрения индустрии мы сравнимы примерно как МХТ имени Чехова в Москве с кемеровским ТЮЗом.
Сила русской киноиндустрии, её особенность, её талант во многом заключается в умении делать конфетку из говна. Мне бы хотелось когда-нибудь поработать и с другим материалом.
- То есть, дело в инструментарии?
- Инструментарий, индустрия, бюджеты. Я считаю, что уж с чем-с чем, а с талантами у нас в стране проблем нет никаких. Но мне бы хотелось поработать в другой культурной системе, в той многоликой и великой индустрии, которая построена в Соединённых Штатах. Но я не исключаю и возможность того, что через 10 лет я буду работать сторожем на хлебозаводе, как герой отцовского фильма «Француз».
- Того, про который ты после показа на Сахалине сказал «неплохо для двух стариков»?
- Это я под****л старичка, у нас давно такие подколы.
- И ты недавно говорил, что «Француз» — лучший фильм Андрея Сергеевича.
- Безусловно. Это, наверное, самый личный его фильм, ведь советская власть не давала ему снимать об этих людях, когда он был молод. Но что меня удивляет: на мой взгляд, это совершенно не стариковская картина, чего я втайне очень боялся, ведь я терпеть не могу стариковское кино.
«Француз» — картина очень страстная. Вся её сила заключается в том, что она сделана на энергии чистой ненависти. Человек хотел снять этот фильм 50 лет назад, ему не дали раз, два, три. Он тридцать лет не снимал кино, дождался, пока они все сдохнут, и сделал всё так, как хотел.
- По мне, так он и выглядит, в плане стилистики, работы с картинкой, с материалом, как будто он был снят пятьдесят лет назад.
- Да, мне это и нравится, потому что это не стилизация под ретро, которая нынче в моде и которую я тоже очень люблю. Это последний советский фильм — я так его воспринимаю. Его делали советский режиссёр и советский оператор. И этот оператор, Юрий Шайгарданов, пошутил, когда они выбирали объект для съёмок: «Андрей Сергеевич, у нас с вами «Я шагаю по Москве», только наоборот».
- Поговорим о твоих предстоящих проектах. Ты снимаешь полнометражный фильм «Подвиг», где Фёдор Бондарчук и Юлия Высоцкая играют пару, попавшую в непростую ситуацию.
- Да, проект в работе. Возникли, как и всегда, определённые финансовые проблемы, которые долго не удавалось сдвинуть с места, но недавно у нас появилась рабочая идея по их решению.
Тут дело в том, что система дебютов работает таким образом, что Минкульт даёт тебе 25 млн рублей, и ты на них снимаешь. Во-первых, я не хотел бы снимать на 25 миллионов, потому как это предполагает определённый режим, я такого уже хлебнул при работе над «Садовым кольцом». А во-вторых, пока мне кажется, что это очень сложная художественная задача: продумать и написать сценарий, который можно снять за копейки. По сути это должен быть выдающийся сценарий в одной локации на трёх актёрах.
- Как «Коллектор».
- Да, но «Коллектор» — не дебют. Если говорить о дебютах, я бы назвал фильм Антона Коломейца «Ваш репетитор» — безусловно, артхаусный, но сделанный при этом бюджете абсолютно безукоризненно.
- То есть, проблема в размере бюджета, а не в том факте, что нужно брать деньги у Минкульта? А то твоя сестра Авдотья Смирнова, когда снимала «Историю одного назначения», постаралась обойтись без единой копейки государственных денег.
- Авдотья по разным причинам решила, что в её случае это было бы не совсем корректно. Дело вовсе не в каких-то дурных отношениях с Минкультом, а в её жизненных обстоятельствах. У меня другие жизненные обстоятельства, и деньги от Минкульта я собираюсь пустить на дело. У нас так устроена страна, что частное финансирование кинематографа пока находится на ранней стадии развития.
- Но Абрамович пытается это исправить.
- Я очень надеюсь, что у него получится. Когда Роман Аркадьевич пришёл в футбол, он там навёл порядок. Я надеюсь, что в кино он тоже пришёл всерьёз и надолго, о чём свидетельствует и создание фонда, и его влияние на репертуар «Кинотавра» этого года.
- Ты ещё работал над каким-то фантастическим сериалом.
- Да, он лежит у одного очень классного продюсера. Такой сериал, в силу своей жанровой особенности, является не совсем форматным, поэтому его чуть сложнее продвигать.
- Можешь чуть приподнять завесу тайны?
- Понимаешь, я был подростком-гиком, так что я, конечно же, мечтал снимать фантастику. Но при всём моём уважении к Рубену Левоновичу Дишдишяну, у нас кроме «Волкодава», который в финале сражается с огромной кучей говна, и ему подобных произведений ничего не сняли. И, поскольку у нас в стране есть литературная база в виде хотя бы Стругацких, мне было непонятно, почему так сложилось.
Теперь я понимаю, что проблемы простые. Во-первых, всегда существует более качественный западный аналог, ведь таких бюджетов, которые тратятся в США на какой-нибудь «Звёздный крейсер Галактика» (Battlestar Galactica), здесь просто не существует, и, как ты кровью ни харкай и из кожи вон ни лезь, лучше сделать не получится. А во-вторых, у зрителя сформировалось предубеждение в отношении русской фантастики из-за того, что её зачастую снимают люди, которые фантастику терпеть не могут и ничего о ней не знают. Та же история с фильмами о тинейджерах, в которых мы видим образы подростков от сорокалетних дядечек.
Я думаю, что рецепт такой: нужно взять жанр, который стилистически позволяет снимать дёшево и не будет существовать на бешеном пафосе, поскольку этот пафос смотрится хорошо, только опираясь на солидный бюджет. И тогда я вспомнил сериал своего детства, «Баффи» (Buffy the Vampire Slayer) Джосса Уидона. В нём была смесь ужастика и комедии. Мы с моим ближайшим другом, сценаристом Тимофеем Декиным, решили, что нам было бы интересно написать вот такую комедийно-хоррорную историю. В ней будут школьник-гик (нормальный такой гик, за качество отвечаю головой) и демон Асмодей, изгнанный из Ада. Из-за проклятия, наложенного на демона, его сила обратилась против него самого и он стал человеком с кучей фобий: боится грязи, открытых пространств и многого другого. Рабочее название — «Асмодей и Весемир».
- Как обстоят дела в личной жизни? Я читал, что ты встречаешься с Анастасией Пальчиковой, сценаристом фильма (и сериала) «Большой».
- Уже не просто встречаемся, я сделал ей предложение, она теперь моя невеста.
- Совет да любовь. А когда ты планируешь из Смирнова-младшего превратиться в Смирнова-среднего?
- Это как у ситхов? Только двое их, учитель и ученик? Там всё-таки немного про другое.
- Я о продолжении рода.
- Как Бог даст.
- Ни твой отец, ни сестра Авдотья не лезут в твои дела напрямую, но могут помочь дельным советом. Можешь вспомнить один хороший совет?
- От кого из них?
- Можно по одному от каждого.
- Вообще, режиссёрство — это не та профессия, в которой можно кого-то чему-то научить. Но Дунька дала интересный совет: делать противоположные по настроению и игре дубли и монтировать из них одну сцену. А отец научил меня тому, что на съёмочной площадке должна быть атмосфера праздника и счастья, и любой конфликт в съёмочной группе, за который в любом случае отвечает режиссёр, всегда будет виден на камере.
Но, наверное, лучший совет мне дал режиссёр Пол Верховен. Я работал переводчиком, переводил для него, когда он приехал в Россию. Он чудный мужик, мы с ним провели много времени, и я сказал, что являюсь большим поклонником его фильмов — и американских, и голландских — и попросил совет. Он сказал: «Ты — отличный парень, и я тебе дам, возможно, главный совет о кино, который ты услышишь. Я очень жалею, что мне в своё время его не дали: ложись пораньше спать».
- «Эй ты! Ну-ка повернулся!»
- Жулика заставили играть честно
- Соревнования по щёлканью хлыстом
- Глухарь вышел к человеку
- В Мексике пёс запрыгнул в гроб хозяина